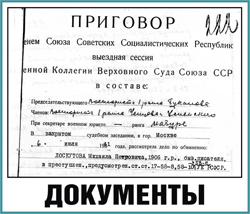Про Мотю
Про Мотю

Каждой новой няньке мама говорила: «Танечку бить нельзя. Захочется непременно, но – нельзя. Иначе уволю».
Няньки боялись маму. Но бить – хотелось. Поэтому они уходили сами.
И вот появилась Мотя. Она была родом из деревни Нелидово. Когда её спрашивали, большая ли деревня, она степенно отвечала: «Да поболе Москвы будет».
Она слушала мамины «нельзя» и приговаривала: «А как же? Нешто можно дитю бить? Никак не можно».
Разумеется, в первый же день Мотя отлупила меня. Потому что не бить меня было нельзя.
Говорят, что слов я не понимала. Говорят, что у меня была мания – убегать. Бежать ото всех, всегда, до первого препятствия, а потом снова – вбок, в сторону, назад… И без всякой цели.
Кажется, отсутствие цели – единственный принцип, который я пронесла через всю жизнь.
Я стала прикидывать, какую пользу я могу извлечь из этой экзекуции.
Например, можно держать няньку на крючке, чтобы она под страхом доноса на неё пошла мне на мелкие уступки.
Например, разрешила поорать в ванне, куда она маниакально засовывала меня каждый вечер. Разбитые за день коленки щипало в горячей воде.
С другой стороны, я орала и без её разрешения. Мотя шлёпала меня по губам и пыталась заткнуть орущую глотку намыленной мочалкой.
Хотя, если честно, орать легально было бы не так сладостно.
Вместе с тем я догадывалась, что за молчание можно попросить и больше.
Например, чтобы она варила меня в проклятой ванне хотя бы не каждый день.
Вечером семья собралась за ужином. Я многозначительно, как мне казалось, смотрела на Мотю. Мотя была как сфинкс. Это раззадоривало меня ещё больше. Хоть бы знак подала, хоть бы палец к губам приложила…
И тогда я, маленькая шантажистка, не выдержала. Я поймала равнодушный взгляд и прошептала зловеще: «А вот я сейчас маме скажу, что ты меня…”
Мотя ласково посмотрела на меня и произнесла: «А ты скажи, конешна, скажи… Нешто можно не сказать? Нешто можно мамку обманывать?»
«Конешна», я заткнулась. Меньше всего я хотела, чтобы Мотю прогнали. Кто же по своей глупости захочет терять такого замечательного врага?
Поэтому и без знания слова “шантаж” чувствовала, что пугать, дразнить, ябедничать – плохо.
Может, я про что-то похожее читала. Может, слышала во дворе.
Во всяком случае, образ врага к ночи поменялся кардинально.
Моим врагом теперь была я сама – значит, надо было себя наказать.
Где-то я читала красивые слова “до первой крови”. Ещё было что-то манящее про кровь, про клятвы, которые она скрепляет…..
Клясться я не умела. Вернее умела, но нарушала клятву прежде, чем она была озвучена. Но с кровью! Со своей!?
Я поняла, что впервые в жизни у меня появился шанс совершить подвиг.
Дождавшись, когда все уснут, я прокралась на кухню, достала из нашего ящика самый большой столовый нож и босиком прошлёпала в конец коридора, к балкону. Здесь было светло, над двором висела синяя луна. На душе было «торжественно и тихо». Сердце… Нет, я не помню вообще, билось оно или нет.
Предстоящая экзекуция была проста. Нужно было сделать на руке, ближе к плечу, глубокий надрез, предъявить появившуюся кровь няньке и в чём-нибудь поклясться.
Сейчас я думаю, что уже тогда подозревала в этом какую-то фальшь, лукавство.
Можно было просто сказать Моте, что мне стыдно, что я бы никогда,.. и т.д. Но тогда не было бы спектакля и получилось бы буднично.
Да и вряд ли я бы нашла про всё это такие замечательные слова, как в книжках. А главное, я не была уверена, что мне стыдно. Это слово я слышала сто раз на дню от бабки, соседей, в школе, и оно ничего не выражало.
То, что испытывала я, было мощнее, значительнее, с заявкой, что оно останется со мной навсегда.
Я саданула ножом по левой руке, ничего не почувствовала, и повторила движение. Догадавшись, что ножик тупой, я испытала отчаяние. Минут десять я стояла в голубом свете луны и монотонно пилила себя, не попадая в один и тот же надрез.
Ты видел три бледные полоски на моём предплечье. Мне же они напоминают о чистоте былых помыслов, о бессилии объяснить себя, о страхе, восторге, гордости за себя, надеждах, и о чём-то ещё, что забылось, истончилось, размылось и потеряло смысл.
Я зажала руку ладошкой. Ладонь прилипла к порезам. Я прокралась обратно, в комнату, в темноте нащупала край мотиной раскладушки, нагнулась над спящей нянькой и нащупала на одеяле её руку.
«Мотенька, Моть, потрогай, тебе здесь не видно, это настоящая кровь, моя, я наказала себя, я сроду бы не сказала маме…»
Мотя сонно заворочалась, локтем отодвинула меня от раскладушки, нащупала щлёпанцы и подтолкнула меня к двери.
В кухне она включила свет и увидела мою слабоокровавленную руку.
Думаю, в этот момент во мне начала просыпаться настоящая женщина. Я предчувствовала слёзы, объятья, взаимные просьбы о прощении…
Мотя погладила меня по волосам, вздохнула и широко развела свои колени. Через одно из них перекинула меня, задрала сорочку и стала ритмично лупить по всем заголённым местам, приговаривая в такт шлепкам: «Нешто можно по полу босиком ходить? Нешто можно бабкиным ножом безобразию чинить?»
Не помню, била меня Мотя потом или нет. Это было неважно. Я любила Мотю так, как не любила никого до неё и после неё.
Через год её у нас переманила какая-то генеральская семья с двумя детьми. Наверное, эти дети «понимали слова».